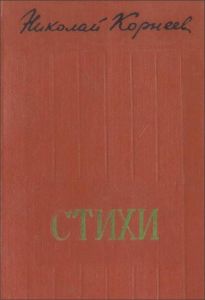Снега серебро высокой пробы стих корнеев
Давно приказы отданы о сыске,
Но, шпиков взмыленных со следа сбив,
В шалашике у станции Разлив
Живет товарищ Ленин без прописки.
Разлив!
Рекой весенней бирюзовой.
Ночным дымком рыбацкого костра,
Подснежником, что вспыхнул лишь вчера,
И впредь всегда пусть пахнет это слово.
Но нам дороже запах в нем иной:
Стволов, еще дымящихся, «Авроры»,
Махорочки в дворцовых коридорах,
Шинелей, продырявленные войной.
Сапог, что прохудилися в походе,
Знамен, что пролетарии несли.
Разлив — любви и гнева половодье,
Великой революции разлив.
Мы понимаем:
просто совпаденье,
Что это имя станции дано,
Но, может быть, поэтому оно
С особым произносится волненьем.
Огонь и черный траур флага.
Прохладный холод саркофага.
Лица сухая желтизна.
Людской поток, не иссякая.
Течет, а кажется — стоит.
Мать из далекого Китая.
Склонясь, глядит, глядит, глядит.
Под строгой сенью мавзолей.
Как будто в комнате простой.
Ильич сейчас ей все роднее
Лица привычной желтизной.
Выходим.
Догорает солнце.
Сынишка тихо говорит:
— Он спит сейчас,
И он проснется.
Я видел сам:
Он крепко спит.
Смывает синева сквозная
Заката алую кайму.
Сынишка верит
И не знает.
Как я завидую ему.
ВЕНГЕРСКАЯ ГРЕНАДА
Весны закипающий шум
Любили мы слушать с ним прежде.
О друге моем я пишу,
Который убит в Будапеште,
От края родного вдали.
В клубящейся мгле ошалелой.
Сквозь самое сердце прошли
Навылет
«скрещенные стрелы».
Но видится друг не в бою.
Шагая со мною по саду,
Он снова читает свою
Любимую с детства «Гренаду».
О хлопце, что шел воевать
Не славы, не почестей ради,
А землю желая отдать
Крестьянам в далекой Гренаде.
Он эти стихи наизусть
Твердил мне негромко, но внятно.
Большая испанская грусть
Сердцам нашим очень понятна.
В земле сталинградской лежит
Твой мальчик, твой сын, Ибаррури.
Закованный в цепи Мадрид
Чело свое смуглое хмурит.
. Я знаю: приказ — не совет.
И в армии все — по приказу.
Идти в Будапешт или нет,
Его не спросили ни разу.
Но, если б спросили всерьез,
Горяч, но спокоен и светел,
Мой друг бы на этот вопрос
Стихом из «Гренады» ответил.
Он все понимал хорошо.
Всем сердцем он чуял: так надо.
Он взял автомат и пошел.
Он понял, что это — Гренада.
ЯНТАРЬ И ГРАНИТ
Янтарь,
Он тепловат немножко.
Он — словно отверделый свет,
В нем дивно сохранилась мошка,
Которой много тысяч лет.
Красив он, —
ничего не скажешь,
Но через тыщи лет и верст
Он лишь случайную букашку
Из тьмы столетий к нам донес.
И пусть в нем даже воздух виден
Четой прозрачных пузырьков,
— Янтарь у нас прижился
в виде
Безделок — бус да мундштуков.
А вот — прямая грань гранита.
На ней рисунок:
схватка с львом.
Его прапращур наш сердитый
Каким-то высек острием.
Пещерный лев, в прыжке летящий,
И человек — лицом к судьбе.
Он рассказал-таки, прапращур,
О времени и о себе,
И я всем сердцем,
всем сознаньем
Хочу,
чтоб нынешний мой стих
Дошел,
но не янтарной данью,
А вот такой гранитной гранью
Хотя б до правнуков моих.
Ф.П. Максимову
дважды Герою
Социалистического Труда
Он, как и десять лет назад,
Все председателем в колхозе.
«Где ж рост? — иные говорят. —
Себя он к месту приморозил».
Так говорят подчас о нем
В чины влюбленные без меры,
Рост понимая,
как подъем
По шаткой лесенке карьеры.
Они спешат,
махнув рукой,
Решить, что видно, слишком прост он.
Им невдомек, что рост такой
Ему — большому — не по росту.
Да, у него все тот же пост.
Но, время впрямь опережая,
Он вместе с новой хатой рос
И вместе с новым урожаем.
В дороге дальней и крутой,
В горячем напряженье буден.
Он рос делами и мечтой,
Своей прямой любовью к людям,
Своею стойкой верой в них,
Их верой радостной, ответной,
Он выпрямлял, учил одних,
А у других просил совета.
Не говорил он громких слов
И цифрой не бряцал богатой,
Но не любители чинов.
А он был избран депутатом.
В своем Кремле
как депутат,
Статьи законов принимая.
Он слышал, как в земле шумят
Ростки, дорогу пробивая.
Вот так он коммунистом рос,
В большом своем размахе молод,
До золотых высоких звезд, —
Тех, на которых — Серп и Молот.
Утром солнце на востоке.
Ярок красный гребешок,
И подсолнечник высокий
Смотрит прямо на восток.
К полдню солнце у зенита
Белым пламенем горит,
И подсолнух непокрытый
В этот час глядит в зенит.
Вечер. Запад полыхает
Уходящей краской дня,
И подсолнух не спускает
Глаз с червонного огня.
Все дела свои откинув,
Не поставив запятой,
Я показываю сыну
Тот подсолнух золотой.
И, одним желаньем полный,
Я смотрю на малыша.
Пусть растет он, как подсолнух,
Чтобы к солнцу — вся душа.
БОЕВОЙ ЛИСТОК
Сейсмографа внезапный росчерк.
Весь город вздрогнул и погас.
Театр упал лицом на площадь,
И склад взорвался, как фугас.
Железо гнулось,
сталь ломалась,
Качалась горная гряда.
Земная твердь,
как в шторм вода,
Девятым валом подымалась.
А в глинобитном, с трещинами, доме,
Построенном еще вручную, встарь.
Уже с людьми работал, как в обкоме,
Чалмой бинтов кивая, секретарь.
Он чувствовал себя не в кабинете,
А на планете: пламя под корой.
«Важней всего помочь сейчас же детям
И связь скорей восстановить с Москвой».
Он говорит медлительно и кратко.
Крутые скулы. Круглые очки.
«Родильный дом немедленно в палатки:
Еще возможны сильные толчки».
И вот в палатке нового роддома
Уже висит короткий, в тридцать строк,
Издания парткома и месткома
Неукротимый «боевой листок».
Знакомо смотрит,
светит каждым словом
Простой листок — былина из былин:
«Все дети и все матери здоровы.
Доставлен из Москвы пенициллин».
Восходит утро. Птахи свищут тонко.
Шумит чуть слышно самолет вдали,
И кормит мать счастливая ребенка —
Хозяина всех буйных сил Земли.
Казалось силы на исходе,
Я на бессилье обречен,
И завтра скажут:
«Он негоден.
Как видно, исписался он».
Все это было ощутимо,
Как ощутима тошнота.
Шаги по коридору. Мимо?
Нет, постучали.
— Можно?
— Да.
Он снял защитную фуражку,
Пригладил чуб.
— Ты занят?
— Нет.
— А на узле многотиражку
Поможешь выпустить, поэт?
— Что ж, это можно.
. Шли недели.
Шли поезда в Москву и в Крым.
И на промывке, и в котельной
Меня считали все своим.
И в шуме транспортного пара,
Вначале различим едва,
Возник вдруг замысел, как парус,
Явились точные слова.
И вновь в строю себя я числю,
И черный чай ночами пью.
Стыдясь своих недавних мыслей,
Почти как трусости в бою.
Теперь пишу я днем и ночью.
Забыв о праве на привал.
Свирепо раздирая в клочья
То, что вчера не браковал.
И даль прозрачная, сквозная
Уже открыта мне опять,
А силы столько,
что не знаю
Порой,
куда ее девать.
РАСКЛЕЙЩИЦА АФИШ
Каштановой бородкой кисти
Она проводит по стене.
Ее рука все золотистей
В июньском утреннем огне.
Афиша пестрая мелькает
Под пальцами,
а через миг
Уже прохожих окликает
И останавливает их.
И лишь расклейщица не слышит,
И не оглянется назад.
Те имена, что на афише,
Ей очень мало говорят.
Чайковский и Леонковалло.
Бах, Римский-Корсаков, Гуно.
Она в концертах не бывала,
Предпочитая им кино.
Она поет негромко что-то
Простое, словно свист щегла,
Чтоб веселее шла работа.
Чтоб веселее юность шла.
Но вот старик с тяжелой тростью
Остановился. Кто поет?
С надеждой, с радостью и злостью
Уже он слушает ее.
Что ж, он признаться может честно,
И нету вывода верней;
В партере ей совсем не место,
Не место на галерке ей.
Стоит он,
глаз прищурив серый,
Взволнованный до немоты
И ясно видит:
из партера
К ее ногам
летят цветы.
Приснилось:
я — не я,
а ясень.
Кто подменил судьбу мою?
Предельно ясен и прекрасен
В степи я царственно стою.
А человек идет шатаясь.
Огромен груз. Далек привал.
Я, с расстояньем не считаясь,
Ему в пути бы помогал.
Я б поддержал его над бездной,
Воды принес бы в мертвый зной.
Тепло б отдал в мороз железный
На снежной целине степной.
Но мой удел — стоять на месте.
Кому — весь мир, а мне — лишь пядь.
Страннее не придумать мести,
Безжалостней не наказать!
Если взгляд туманит пелена,
Если силы больше не осталось,
Ляг плашмя на землю,
и она
Выпьет до конца твою усталость.
Ты проснешься сильным.
Труден путь,
Но давно тобою сделан выбор,
Пусть молчит земля:
ты не забудь
Ей сказать,
как матери:
Спасибо!
Хочу сказать про осень слово
Простое, верное, свое,
Ее охаивать не ново.
Как, впрочем, и хвалить ее,
Все так: деревья облетают
И улетают журавли
И криком за сердце хватают,
И прелью пахнет от земли.
Но что нам листопад и тучи,
И клин прощанья в небесах.
Коль в сердце нету голых сучьев
И мутной мороси в глазах.
Что ж, в этом вовсе нет секрета,
Хоть горько замечать порой,
Как бьются в волосах два цвета,
И побеждает цвет второй.
Знакомый, чистый и упорный
Цвет госпитального бинта,
Цвет белизны высокогорной.
Цвет ждущего стихов листа.
Я знаю: он напоминанье
О череде ушедших лет,
Но в чувствах нет похолоданья,
Ни тени равнодушья нет.
Опять глядеть — не наглядеться
На ту, которая мила.
Опять трава, как в раннем детстве,
Тепла, светла и весела.
Не злости белого кипения,
Не гнева — он прорвется пусть —
Боюсь я твоего терпения.
Твоей покорности боюсь.
Бровей надломленными дугами
Пугаешь горько ты меня,
Я глаз твоих боюсь испуганных.
Где пепел лег поверх огня.
Вернее делаюсь и лучше я,
И, видно, дело не в годах:
С твоею слабостью могучею
Не совладать мне никогда.
Ты забыла дорогу неблизкую,
Саксаула сухие цветы.
Солнцекрылую осень киргизскую
На прощанье не вспомнила ты.
Ложь свою не считая отвергнутой,
Ты сказала:
«Вернешься. Молчи».
Ты меня принимала за беркута.
Что сидел на руке беркутчи *
Отпускают его за добычею,
Перед ним его горы стоят,
Но, влекомый слепою привычкою,
Возвращается беркут назад.
Сядет на руку он, как положено.
Подчинен, приручен, обречен.
А чтоб воля совсем не тревожила,
На глазах у него — колпачок.
Меня меришь ты меркою птичьею,
Усмехаясь:
«Проедется пусть!».
Я не стану летать за добычею.
Я не беркут:
назад не вернусь.
* Охотник с прирученным беркутом.
Ты все роднее и роднее.
Все больше ты в моей судьбе.
Мне все труднее и труднее
Полправды говорить тебе
Иль соглашаться молчаливо.
Твоей не тронув простоты,
Что я и сильный, и счастливый,
Каким меня считаешь ты.
Не лучше ли,
обезоружив
Тебя правдивостью своей.
Открыть, что я слабей и хуже,
Непостоянней и бедней.
Нет! Лучший выход из обмана —
Ломать себя до той черты,
Пока взаправду я не стану
Таким, в какого веришь ты.
На одной из тихих улиц в Курске,
У тесовых сереньких ворот,
Песню провансальцев по-французски
Девочка кудрявая поет,
Интересно, как это случилось?
Восемь лет ей минуло едва.
Где ж она французскому училась,
Где взяла мелодию, слова?
Вот подходит быстро к ней, глазастой,
Носов Степка — местный наш Тимур.
Говорит ей дружелюбно:
«Здравствуй!»
А она тотчас ему:
«Бонжур!»
И мальчишка, левою рукою
Сдвинув свою кепку набекрень,
Спрашивает.
«Это что такое?»
«Ти не понимает? Доблий дьен!»
Мне вначале показалось странным:
В Курске — от Москвы невдалеке,
Девочка, совсем как иностранка,
Говорит на русском языке.
«Доблий дьен». «Бонжур».
Теперь я знаю,
Что у девочки кудрявой той
Мама есть — курянка коренная,
Папа есть — марселец коренной.
Где же они встретились?
В концлаге.
Не в зеленой роще у ключа.
Знак паучий на имперском флаге.
Пепел человеческий в печах.
Ледяной, как смерть, цемент подвала.
Воронье над лагерной трубой.
Но и здесь
рождалась,
выживала.
Крепла
вопреки всему
любовь.
И в шумливом городе Марселе,
Года через два после войны.
Оля появилась в колыбели, —
Имя дал отец ей в честь жены.
Он в порту работал на разгрузке
Океанских грузных кораблей.
А она все о далеком Курске
Говорила доченьке своей.
Говорила с ней сперва по-русски.
А потом на новом языке:
Не по-русски и по по-французски —
На смешном своем волапюке.
Празднует рабочее предместье
Штурм Бастильи или Новый год,
А у мамы сердце не на месте,
Мама песню курскую поет.
Молча поит папу сладким чаем.
Что ж ты не смеешься? Что ж молчишь?
Папа говорит:
«Она скучает.
Скоро мы покажем ей Париж,
Веселей на свете нету места!
А какой я знаю к Сене спуск!»
Он Париж ей показал. Проездом
В самый лучший в мире город Курск.
Только этот город маме снился.
Соловьиный, в кружеве садов.
Как же было тут не согласиться,
Что прекрасней нету городов.
На одной из тихих улиц в Курске.
У тесовых сереньких ворот.
Песню провансальцев по-французски
Девочка кудрявая поет,
А Тимур наш недоволен вроде.
Он сейчас серьезен, даже хмур,
К девочке он медленно подходит
И раздельно говорит:
«Бонжур!
Ты скажи, пожалуйста, мне толком.
Это слово понимаешь?»
«Да».
«Вы сюда приехали надолго?»
«Нет, мы не надолго. Навсегда».
СЛЕЗЫ И СМЕХ
Когда я плакал?
Лет пятнадцать
Тому назад, и то чуть-чуть,
Теперь мне легче рассмеяться,
Чем, свесив голову, вздохнуть.
А малышу варенья в блюдце.
Сердясь, не положила мать,
И вот ручьями слезы льются,
И их никак не удержать.
А в небесах сияет солнце.
И ждет владельца пара лыж.
Тебе, видать, трудней живется,
Чем мне, мой плачущий малыш.
МАЛЕНЬКОЕ ЧУДО
Иногда так просто
Сделать чудо.
. Мальчик с пальчик,
Этакий пузырь,
Накатавшись,
Налетавшись всюду,
Спит,
Как после битвы богатырь,
В лес Топтыгин
Манит его лапой.
В этот миг.
Прекрасна и свежа,
В двери, наяву,
В обнимку с папой,
Входит Елка,
Ветками шурша.
На нее из рамы
Смотрит Пушкин,
Словно заприметил
За версту.
Укрепляет мама
На верхушке
Прямо с неба снятую
Звезду.
Чуть звенят
Стеклянные монисты.
Голубеет
Тепловатый снег.
И, вдыхая
Аромат смолистый,
Мальчик
Улыбается во сне.
В хороводе
Кружатся планеты,
Брызжет фейерверками
Москва.
Зимняя, особенная, эта
Ночь полна
Сплошного волшебства.
. Мальчик с пальчик
Открывает веки,
Не зевнув,
Открытым держит рот,
Этот миг
Запомнит он навеки,
Сквозь огни и воды пронесет.
В двух шагах —
Рукой достанешь —
Чудо.
Серебро, Багрянец, Бирюза,
«Мама! Папа!
Что это?! Откуда?! —
Протирает малышок глаза.
И совсем
Без всякого притворства,
И ничуть не в шутку,
А всерьез.
Отвечают гордо
Чудотворцы:
«Мы не знаем.
Это — дед Мороз».
Пусть же эта
Радостная скромность
Им не изменяет
Никогда:
Ни в аудиториях огромных,
Ни в цехах,
Ни в дальних поездах,
И по всей
По необъятной шири,
Подняв
Золотые паруса,
Пусть сияют
Рядышком с большими
Маленькие эти
Чудеса!
Ива добежала до обрыва
И остановилась у черты.
Наклонилась, вздрогнула пугливо
И впилась корнями в землю ива.
Ветками схватилась за кусты
Разве она думала про смелость?
Смелость — это дело не ее.
Просто ей увидеть, захотелось
В речке отражение свое.
А мальчишка подбежал строптиво.
На бегу одолевая страх.
Птицею взлетел на ветку ивы.
Оттолкнулся и исчез в волнах.
Разве ему хвастаться хотелось?
Не пришли свидетели сюда,
Нет, ему необходима смелость
Так, как эти воздух и вода.
Самолет разбился на заре.
День прошел,
и двое, трое суток.
Человек заметно постарел.
Он не спит ни часу, ни минуты.
Иногда заговорит с собой,
В голосе — то горечь, то угроза.
А в глазах, в губах, в морщинах — боль,
Начисто сжигающая слезы.
Может, сына он лишился?
Нет.
Дочери? Жены?
Здоровы. Дома.
И среди погибших, не секрет,
Не увидел он имен знакомых,
Не было знакомых там имен.
Но опять бессоницы пехота
Окружает тихо.
Кто же он?
Трудно вам, конструктор самолета!
ПЕРЕД СТРАДОЙ
Под ежа острижены луга,
И мальчишки морщатся босые.
Чибисы садятся на стога,
Овода жужжат, как заводные.
Синь невероятной чистоты
Небосвод окрасила высокий.
Тонкорунных облаков гурты
Жмутся к горизонту на востоке,
Изредка коротенькая дрожь
По листве деревьев пробежится.
Доспевает, доспевает рожь.
Золотится русая пшеница.
Золотятся ежики ребят.
Мальчуганы, торопя событья.
Молча на комбайнера глядят,
Как на капитана пред отплытьем.
Наш добрый урожай!
Давно ли
Он под упорным солнцем лета
Стоял, покачиваясь, в поле, —
Теперь сидит в печи нагретой.
Кого, кого это не тронет:
Почти гордясь своим искусством.
Хозяйка держит на ладони
Коврижку, пахнущую вкусно.
Красив в прохладном раннем свете
Загар буханки непочатой.
Капустного листа заметен
На нижней корке отпечаток.
Вот скачет по траве росистой
Ватага радости босая.
Прямой потомок тракториста
Горбушку хрусткую кусает.
Пусть будет славен на планете
Чистейший хлеб с безмежных пашен.
Мы хлебом вскармливаем этим
Большое будущее наше.
С рассветом дворник —
на передовой,
Он лед крушит
и сердится все пуще.
Машина снег сгребает
с мостовой,
Пуская в ход
две лапы загребущих.
И словно мусор зимних непогод.
Как никому ненужные отбросы,
Везут на свалку
этот снег и лед,
Взвывая на подъемах,
грузовозы.
Асфальт, как в мае,
чист, голубоват,
Пестреют крыши
красным и зеленым.
Но люди
о весне не говорят:
Январь звенит
морозным, гулким звоном.
А вот он — путь
из города к колхоз.
Он сразу устремляется
на север.
Все резче ветер,
все острей мороз,
Но речь ведут попутчики
о севе!
В полях все больше
белоснежных вех.
Но — посмотри —
тут люди и машины
Не гонят,
а удерживают снег,
Чтоб был он в два,
нет лучше — в три аршина.
Не белизна
завидной чистоты
Сейчас перед глазами
серебрится, —
Я вижу
черноземные пласты
И струйки золотистые
пшеницы.
И разметав
снежинок лепестки,
Нам агроном
коленопреклоненный
Показывает
сильные ростки —
Огонь веселый
озими зеленой.
Забыв про все
снега и холода,
Мы смотрим
на росточки эти
в оба
К весне ты хочешь
ближе быть всегда?
Переезжай навечно
к хлеборобам!
НА РАССВЕТЕ
Я был разбужен на
рассвете.
Гул нарастал и несся вдаль.
Казалось, можно гулом
этим,
Как автогеном,
резать сталь.
И первой мысль была о сыне:
Ему и страшно, и темно,
А он, мальчишка в майке
синей,
Смотрел с улыбкою в окно,
И, как про добрую
примету.
Он, протянув ручонку в
сад,
Сказал обрадованно:
— Это
Все «реактивщики» летят!
Благословенны на планете
Те огневые «ястребки»,
Которым радуются дети.
В которых верят старики.
ЧЕРНАЯ ПОВЯЗКА
Я ранен минным был осколком
В причерноморской стороне.
Кой-кто считает, что неловко
Об этом говорить при мне.
Мол, тут особое раненье.
И от души нам жаль бойца.
Пусть пострадало б только зренье,
А то — и красота лица.
До гроба — горькая примета.
Носить повязку иль протез. —
Ходить и не видать полсвета,
Ходить — отпугивать невест.
Нет!
Умолчанье не врачует
Крещеных ливнем огневым.
И от души сказать хочу я
Доброжелателям моим.
Конечно, рана — не подарок,
Но все случается в бою.
И силы тратите вы даром
Но жалость тихую свою.
Повязку черную носил я.
Но ей лица не зачеркнуть
И гордых девушек России
Ей никогда не отпугнуть.
Они своей обходят лаской,
Любовью верной и большой
Не тех,
кто с черною повязкой
А тех,
кто с черною душой.
А если говорить без фальши
О зренье, остроте его, —
Я сердцем вижу
глубже,
дальше,
Чем до раненья моего.
Да, нам хлебнуть всего досталось, —
Один без ног, другой — без глаз, —
Но нам, друзья, нужна
не жалость,
Нужна нам правда без прикрас.
Мой двоюродный брат — генерал,
Но скажу,
коль пришлось к разговору:
Я его и тогда уважал.
Когда не был он даже майором.
Уважали его и враги,
Да и как же иначе, — поймите:
Ведь почти всю войну
без ноги
Воевал он,
пилот-истребитель.
Мы с ним встретились после войны.
На столе огурцы, помидоры.
И стаканчики наши полны,
Ну, хотя бы, допустим, кагором.
Я сказал:
А признайся-ка, брат.
Что покоя тебе не давала
Поговорочка:
«Плох тот солдат,
Что не думает стать генералом»?
И с улыбкой сказал генерал
Мне,
солдату,
плечо свое тронув:
— Нет, братеник мой! Я не мечтал,
О сверкающих этих погонах.
Просто мне захотелось летать,
Как голодному хочется хлеба,
Если случай поможет, достать
Капитанские звездочки с неба.
Ну, а ты?
Эх, да что уж. Мечтал
Стать вторым Македонским когда-то.
— Что ж, братишка. — сказал генерал:
Выл ты, значит,
хорошим
солдатом!
Нет, не докопаться,
кто впервые,
Удивив находкою свой взвод.
В те денечки злые, штурмовые.
Так назвал гвардейский миномет.
Нет, не сохранилось точной даты,
Неизвестны месяц и число,
Только имя — помните, солдаты? —
Сразу к миномету приросло.
И повсюду утвердилось сразу,
Словно все мы думали одно,
От лесов карельских до Кавказа
Нами узаконено оно.
Ласковое, — мы не озверели
И не растеряли доброты.
Мирное, — но мы ведь захотели.
Чтоб росли у холмиков кресты.
Сколько человечности и веры
В имени роднейшем из родных!
Шли на нас и «тигры» и «пантеры».
Мы с «Катюшей» нашей шли на них.
Чтоб не ошибиться, кто впервые
Так назвал гвардейский миномет,
Надо прямо говорить:
Россия!
Надо прямо говорить:
Народ!
Не кланяясь,
На запад мчались кони.
Шли танки.
И пехота шла в пыли.
Мы, хмурые,
Стояли на балконе.
Поря б и нам!
Но нас все берегли.
Дымили мы обиженно махоркой.
Простившиеся с прошлым впопыхах
Простые парни
В новых гимнастерках
И кирзовых коротких сапогах.
Теперь мы просыпались по приказу.
И был, как сталь,
Наш распорядок дня.
Уже солдаты,
Но еще ни разу
В атаке
Не хлебнувшие огня.
Нам взять
Хоть безымянную высотку,
Но чтоб сейчас
Был слышен пули свист.
Одни из нас
Шагнув вдруг за решетку
И на руках напруженных повис.
Упрямый чуб
На бровь валился лихо.
И мы смотрели трое,
Не дыша:
Сергей висел,
Покачиваясь тихо,
На высоте шестого этажа.
И помощь бесполезна,
Скорей схватить,
Втащить его!
Но он
Вдруг подтянулся
На руках железных
И перекинул ноги
На балкон.
— Вот это — да!
— Силен!
— Единым махом.
. Но почему ж,
Когда ударил срок,
Сергей Белов,
К земле прижатый страхом,
В атаку вместе с нами
Встать не мог?
Встал Иванчихин,
Желтый востроносый,
Встал Анпилогов,
Длинный, как верста
Встал Казанок,
Отбросив папиросу,
Встал я,
А он —
Весь мускулы —
Не встал.
. Не знали мы,
Следя за ним с балкона
И не жалея для него похвал,
Что, показав нам
Номер свой коронный
Сергей Белов
Ничем не рисковал;
Что, в цирк готовясь,
Крепок и проворен,
Поглаживая
Круглые бока.
Учился он
У «Четырех Эльвори»,
И с нами он
Сыграл наверняка.
Он верил, что таких
И впрямь немного, —
Так можно ль их —
Под вражеский металл?
Несладкую солдатскую дорогу
Он оскорбленьем для себя считал.
. «Вперед!» —
Команда прозвучала снова,
А он не смог, —
Под пулями не встал,
Трус.
В мирном доме ранит это слово,
В атаке — убивает наповал.
ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА
Я так и знал. Мне это не впервой:
Легко рубец огладив фронтовой.
Врач говорит, качая головой:
«Тут ясно все. Негоден к строевой».
Я раньше спорил, а теперь привык.
И я стою. И я молчу, как штык.
Но о молчаньи о таком никак
Не скажешь, что оно — согласья знак.
Она стоит не за леском,
А в самой гуще многолюдья.
Скорей — по виду — телескоп.
Чем смертоносное орудье.
И славиться в столетьях ей
Не грохотом, не счетом трупным.
Не древней прочностью своей
И не калибром самым крупным,
Из Черной Африки поэт
И мастер пушечный с Урала
Решили:
Лучшие пушек нет —
Она за триста с лишним лет
В людей
ни разу
не стреляла.
САПОЖНИК БЕЗ САПОГ
Он шьет такие сапоги
(Хотите поглядеть?),
Что их бы впору на парад
И маршалу надеть.
Ножом, иглою, молотком
Орудует, как бог.
Сапожник — лучше не найти,
Да сам-то без сапог.
Подчас он пошутить не прочь;
Мол, погляди, сосед:
Столяр мне обувь смастерил,
Ношу — износу нет.
Спросил однажды у него
Заказчик-генерал:
«А где же, брат, в каких местах
Ты ноги потерял?»
Ответил:
«Я их не терял.
Товарищ генерал,
Фашист снарядом под Орлом,
Их напрочь оторвал».
Ушел, задумчив, генерал.
А он себе все шьет,
Детей до коликов смешит
Да песенки поет.
Такие песенки поет.
Что всем охота — в пляс.
Такие песенки поет,
Что в слезы вводит нас.
Однажды в праздник он шагал
На громких костылях
И от жены не отставал
При этом ни на шаг.
Приятель встретился ему,
Поморщился слегка:
«Ты почему, Фомич, себя
Не бережешь никак?
Зачем ходулями стучишь
Ты по каменьям здесь?
Мотоколяска у тебя
Уже с полгода есть».
«Да, есть она, и я ее
Не то, чтоб берегу.
Но сидя жить,
но лежа жить.
Не буду! Не могу!»
И зашагал Фомич вперед.
Жене:
«Не отставай!
А то останешься одна, —
Ты это так и знай!»
Шагай, Фомич!
Нам петь и петь.
Детей смешить и шить
С людьми дружить,
беду крушить, —
Нам жить, и жить, и жить!
Ассортимент духовной пиши
Широк, богат,
но по утрам
Мы здесь не кондизделий ищем,
Нужны не разносолы нам.
Желанней и нужнее нету.
Всегда, всегда он на столе.
Вот этот черный хлеб газеты,
Насущный непременный хлеб.
Он свеж, подчас посолен круто.
Какой запас калорий в нем!
И, открывая день,
ему-то
Мы предпочтенье отдаем.
ПРО ЭТО СЛОВО
Малыш трехлетний,
Мокрый нос,
Гордясь находкой новой,
Сегодня с улицы принес
Подхваченное слово.
Он ударенье изменил.
Как явный иностранец,
Но щеки матери покрыл
Неистовый румянец.
. Из горниц выйдя расписных
К сверкающей карете,
Развратник сизый
в крепостных
Швырялся словом этим.
Давным-давно, давным-давно
Под гогот хрипловатый,
Набухло мерзостно оно
В палатах,
а не в хатах.
И наши прадеды
его,
Обиды не прощая,
Как оскорбленье,
как плевок,
Хоромам возвращали.
Им, этим словом, — секрет —
С угрюмостью бирючьей
Ругал купцов мальчишкин дед,
Сломивший спину крючник.
И мы сочувствуем ему,
Глядевшему угрюмо!
Из жизни сделали тюрьму
Для деда толстосумы.
Но нам не надо слов таких:
Ведь мы не крепостные,
Не крючники, не батраки —
Хозяева России!
У нас все силы,
все права,
Все дали,
все запевы.
У нас есть чистые слова
Есть настоящие слова,
Для нежности и гнева.
Живет похабщина пока,
Но и вопрос тут ясен:
Она не сходит с языка
У тех,
кто сердцем
грязен.
Люди, я любил вас!
Будьте бдительны
Ю.Фучик
Когда,
умыто до красна,
Сгоняя тьму,
восходит солнце,
Ночь не уходит вся:
она
По закоулкам остается.
Тут,
прячась в тихие углы,
Окошки плотно занавесив,
Ютятся
выкормыши мглы,
Скрипят,
размазывая плесень.
Не бог
«еси на небеси»
Им обещает
помощь свыше, —
Америки и Би-Би-Си
Тут приглушенный голос слышен.
Ночами черная свеча
Чадит,
бросая тень косую.
И даже имя Ильича
Здесь произносят только всуе.
При свете смрадного огня
Нам беды всякие пророча.
Тут счет ведут
ошибкам дня,
Молчат
о преступленьях ночи.
Из этих дыр,
из этих нор.
Что к настоящей правде глухи,
На свет дневной,
на наш простор,
Как гады,
выползают слухи.
Но, извиваясь и скользя.
Выискивая щели в быте,
Они взывают к нам:
«Друзья!»
Чтоб нас ужалить ядовитей.
Они взывают к нам:
«Друзья!»
Они выискивают случай.
Нет!
Людям забывать нельзя
Про твой завет,
товарищ Фучик!
Пуля почти на излете.
Вот-вот упадет она,
Но крепко знают в пехоте,
Как сила ее страшна.
Пути ей осталось мало,
Но и в его конце
Она — пока не упала —
Может настигнуть цель.
И я б — на краю могилы,
Со смертью накоротке,
Такой вот желал бы силы
Последней своей строке.
Мы знаем:
были возле тронов
И стихотворцы.
Без печали
Из них иные и Нерона
Вслух полубогом величали
За лавры, за вино в фиале.
За легкий выигрыш без боя.
А мы в пехоте воевали,
А мы себя не продавали,
Хлеб на груди отогревали
И не желали мы покоя.
И если все ж, не зная меры.
Мы славословий не стыдились,
То — от души, от чистой веры.
Не от боязни впасть в немилость
Мы на снегу, как дети, спали
В пути и горестном и славном,
Но в главном мы не уступали
И не ошиблись в самом главном.
Острей и глубже то, что было,
Вдруг осветил нам свет колючий,
Но истина не ослепила, —
Мы видим строже, видим лучше.
Вот — трещина —
так можно ль мимо
Пройти, смирив тебя, тревога?
Нет, честь от нас неотделима.
И с ней у нас одна дорога.
Прошедшее, — оно живет
И воскрешает даты.
Ко мне идут за годом год
Из прожитых когда-то.
Как просто и друзей терял,
Как защищал невнятно.
Как часто всюду повторял.
Что и на солнце — пятна.
Как слепо я раздумья гнал
В пути солдатском дальнем,
В степи,
где ветер бушевал,
И возле гордых зданий.
Беспечной песенкой звеня,
Я шел в свое жилище.
Зачем искать мне?
За меня
Уже решают, ищут.
В прекраснодушьи я слабел,
Работал вхолостую
Спасибо, день грозы, тебе
За молнию крутую!
Еще не отступила боль
И горечь не смирилась,
Я вижу даль перед собой, —
Ту, что когда-то снилась.
ПОЕТ ЯПОНКА
Ночь над трибуною светла, —
Теперь мы видны сквозь года:
Вот — девушка.
Она жила
В том дальнем городе,
когда
Весь город обращая в морг,
Поднялся ввысь из пелены
Гриб взрыва — адский людомор,
Поганка атомной войны.
А девушка поет, поет.
Ту песню сжечь не удалось,
В ней вера — не убить ее,
Решимость — не сломить ее,
Как не сломить земную ось!
— Сюда, Пушинка!
Хочешь в сказку
Для всех:
и взрослых и ребят?
Мы на тебя надели маску
И кислородный аппарат.
Вильнув хвостом,
в отсек ракеты
Вошла ты,
лишь был подан знак.
Пусть ты не понимала,
где ты.
Ты знала:
надо сделать так.
Теперь не вместе мы,
а — порознь.
Огонь рванулся из сопла,
И на тебя упала скорость,
На миг дыханье прервала.
Давно внизу осталось небо.
Кричит зеленая звезда.
Теперь ты там,
где в жизни не был
Еще никто и никогда.
Не на тропе земной, обжитой,
Где пахнут зайцем все кусты,
А во Вселенной следопытом
Побудь для вас немножко ты.
Уже почти не ломит спину,
Уже почти не жжет во рту,
Но вот из маленькой кабины
Ты провалилась в пустоту.
Тебя мы ждали не напрасно.
Других Пушинок так не ждут!
Все оказалось безотказным;
И кислород, и парашют.
Ты очень плавно приземлилась,
Была росистою трава,
И ты по ней скакать пустилась,
Освободясь от пут едва.
Ты очень скоро, может статься, —
Мы верим этому вполне, —
Погонишь марсианских зайцев,
Подашь нам лапу на Луне.
МУЗЕЙ МАКЛАЯ
Маклай уплыл.
В простой печали.
Как будто все пред ним в долгу.
Туземцы темные стояли
На невысоком берегу.
Маклай уплыл
И еле-еле
Высокий парус различим.
Все папуа осиротели
Теперь,
когда простились с ним.
Маклай уплыл.
В пурпурной дали
Костер восхода тихо гас.
Туземцы молча вспоминали.
Как он пришел к ним
в первый раз.
Идя спокойными шагами
С собой не нес он на заре
Ни длинной смерти за плечами,
Ни малой смерти на бедре.
С улыбкой светлой,
не бледнея.
Умел смотреть на копья он.
Он безоружностью своею
Был до зубов вооружен.
И через чувство уваженья
Переступить никто не смел.
Такой
не может быть мишенью
Для узких копий,
острых стрел.
Во имя жизни,
а не славы,
Он папуа учил, мирил
И пряди их волос кудрявых
В альбомах бережно хранил.
Уплыл Маклай.
В тиши и в громе,
Бревенчат, тесен, невысок,
Стоит у лукоморья домик,
На нем вертится флюгерок.
И поздним часом,
ранним часом,
На лунный праздник
и на суд,
Сюда приходят папуасы,
Надежды не теряя, ждут.
Быть может, тихое жилище,
Как тот,
кого уже здесь нет,
Разгадку трудную отыщет
И мудрый даст в беде совет.
. Проходят годы,
А в домишке
Никто не тронул и гвоздя.
Навес построили над крышей, —
Хранят избушку от дождя.
И, сруб оглядывая серый.
Не знают в простоте своей.
Что этот тихий домик —
первый
Мемориальный
их музей.
Мороз, как штык,
остер к тих.
Растет он,
силы не тая.
Блестящих клиньев ледяных
Свисают с крыши острия.
Дуб, что листву в январь пронес.
Стоит на взгорье молчалив.
Он длинным инеем оброс
Весь — от макушки до земли.
Но, словно радостный намек, —
Пусть улыбается народ,
Весны чудесный теремок,
Жильца — певца
скворечник ждет.
В нем весны нет и в намеке даже,
Этот месяц — только в осень мост,
Но о нем, об августе, не скажешь.
Что он с неба не хватает звезд.
Нет, как будто богатырь былинный.
Раздвигая толщи темных туч,
Звезды, словно ягоды с рябины,
Обрывает он с небесных кущ.
Это сила зрелости.
И если
Не дано нам бесконечно жить,
Надо ли в скупой, не ранней песне
Об ушедшей юности тужить.
Давно ль был лед
такого качества,
Что за рулем грузовики
Шоферы забывали начисто
О глубине твоей, река.
А нынче ты хлопот наделяла,
Порвав меж берегами связь.
Несутся крыги обалделые,
Сшибаясь, трескаясь, дробясь.
Опять свершилось неминучее,
И слава вновь твоя гремит,
Как этот ледогон под кручею,
Как возле моста, — аммонит.
А женщина идет вдоль берега,
Отвесный спуск ее страшит.
Она ступает неуверенно,
Она негромко говорит.
Ты закипаешь,
горы двигая,
В трубу победную трубя.
А эта — тонкая и тихая,
Но как похожа на тебя!
Я знаю:
в прошлом не запрячется,
Как и ослеплении своем
Я забывал нередка начисто
Об имени ее простом.
Но, доводов ничьих не слушая
Она пришла
и навсегда
Мое взломала равнодушие,
Как ты сегодня — толщу льда.
Раскаянья не отвергаю.
Коль мне вина моя видна,
Но не спешит прощать другая —
Обиженная сторона.
Хоть и в помине нету фальши.
Хоть чистой правдою дышу.
Лишь мать
всегда прощает раньше,
Чем я прощенья попрошу.
Она живет скромней и тише
Былинки тихой полевой,
О ней никто стихов не пишет
И не гремит в передовой.
Не рекордсменка, не новатор, —
Окаменел, слежавшись, быт.
Она на мужа виновато
И выжидающе глядит.
Супруг ко рту подносит ложку.
Глотает. Морщится слегка.
— Что, пересолено немножко?
— Нет! Недосолено пока!
К супругу движется солонка.
А он, хоть на носу очки,
Не замечает робкой, тонкой.
Усталой, преданной руки.
Под фартук прячется рука
С отметинками горькой доли:
С порезом свежим на ладони.
С ожогом возле локотка.
Он суп солит. Обижен. Важен.
Она вздыхает. Легче ей:
И недосол, конечно, страшен.
Но пересол в сто раз страшней.
А за стеной — поля и звезды.
И можно бы бродить, любить.
Когда б она,
пока не поздно,
Смогла всерьез пересолить.
Есть в них золото для красы,
Мы всегда неразлучны с ними.
Носим мы на руке часы.
Ни не стали они ручными.
День опять догорает, ал.
Над окружностью циферблата,
И твердит дорогой металл,
Что минута дороже злата.
Не сберечь ее про запас,
Как припрятанную монету.
Улетает она от нас
Метеорною вспышкой света.
Не алхимия — только труд,
Если радость ему открыта,
Может каждую из минут,
Ухватив, развернуть, как свиток.
Сделать шаг один всей верстой,
В камне ложе канала вырыть.
Сколько жизней прожил Толстой,
Поднимаясь «Войной и миром»!
Время вновь мне в глаза глядит,
Неизбежным углом двух молний,
И меня обжигает стыд:
Как я мало еще исполнил!
ПАМЯТИ ДМИТРИЯ КЕДРИНА
Да, бездарность любит быть крикливой
И рядиться в пестрые цвета.
Он был тих, поэт неторопливый,
Тих, как свет, и прост, как красота.
На рекламу времени не тратя,
Неустанно черпая слова.
Промывал их, как песок старатель
Промывает, золото ловя.
Вот — поэма.
Как не удивиться, —
Столько теплоты и силы в ней
Но краснел всегда он, как девица.
От скупых похвал своих друзей.
Нам вдыхать стихи его, как воздух,
Пахнущий весеннею травой.
Нам любить стихи его, как звезды
Над родною ширью полевой.
Правнукам расскажет о Батые.
И о наших буднях фронтовых,
Весь от сердца твоего, Россия,
Кедринский, простой и чистый, стих.
БАЛЛАДА О СЛАВЕ
С пивною кружкою в руке —
Пусть пена оседает —
В дешевом венском кабачке
О славе Гайдн мечтает,
С друзьями может он шутить,
Во всю расправив плечи.
Но за мансарду уплатить
Ему сегодня нечем.
Вручит хозяин завтра счет,
И, музыкант безвестный,
Опять скитаться он уйдет
По деревням окрестным.
В каком дому найдет постель
И развернет тетради.
Две скрипки и виолончель
Проснулись на эстраде.
Ансамбль убог, и на покой
Пора бы первой скрипке.
Но сразу гомон стих людской.
Затеплились улыбки.
И вот уж пьяницы не пьют
И не жуют обжоры.
Гайдн слышит музыку свою,
Высокий взлет мажора
И, грохнув кружкою о стол,
Кричит соседям в уши:
«Я этот перепев пустой
Не в силах больше слушать!»
Перекосив усмешкой рот,
Откинув к спинке спину,
Он свой второй квартет клянет,
Себя зовет кретином.
Но десять, двадцать кулаков
Ему грозят: «Негодник!
Нет, Гайдн, тебе от тумаков
Не спрятаться сегодня».
Столяр и каменщик — народ
С большим и добрым сердцем —
За Гайдна Гайдну задает,
Как говорится, перцу.
«Ты не уйдешь от нас, наглец!»
«Пустите! Боже правый!
Да неужели, наконец.
Ко мне стучится слава?».
УРОКИ ПОЛИТГРАМОТЫ
Село на горке. Рядом — лес.
«В него и днем не заходи ты».
Есть слово краткое «обрез»,
Есть слово жуткое «бандиты».
Но я с мальчишками порой
Бываю все же на опушке.
Какие елки за рекой!
Сюда бы звезды и хлопушки!
Здесь все спокойно.
Но подчас
Вдруг загудит,
Вдруг грохнет что-то,
И страх метлою гонит нас
За речку,
В школьные ворота.
Проходит по двору отец,
Он в нашей школе главный самый,
«Ну нагулялся наконец?» —
Щекочет щеки он усами.
Зима.
Мне только девять лет,
Учусь я только в третьем классе.
Есть слово светлое «комбед»,
Но смысл его не очень ясен.
Вот в класс заходят бедняки.
Две лампы светят ярко-ярко.
Клубятся синие дымки.
Шумит Андрей Кузьмич Поярков.
Он добрый:
Лично для меня,
Когда «чуть не сыграл я в ящик»,
Из чурки сделал он коня
С хвостом и гривой настоящей.
«Скачи вперед! Кричи «Ура!»
Топчи поганых белячишек!»
А я-то в ящик не играл
И об игре такой не слышал.
А конь хорош!
Отбросив книжки,
Скачу на войлочном седле
Один, — ведь засмеют мальчишки!
Сейчас Андрей Кузьмич сердит.
Не от обиды ль багровея,
О кулаках он говорит,
О деревенских богатеях.
Я знаю кой-кого из них.
Морщинистый, седобородый
Петр Колыванов ласков, тих.
Давал мне сотового меда.
Удодов Клим. Он ростом мал,
Но ходит с важною осанкой.
Меня на масляной катал
Он в легоньких ковровых санках.
Комбед,
Вот с трубкою сидит
Петр Саввич в вышитой сорочке.
Он — наш избач,
Он знаменит
И в самых дальних хуторочках,
Он был крестьянским ходоком.
Он на вагонных крышах ездил.
Был даже с Лениным знаком,
Встречался с ним в Москве на съезде.
Его люблю я больше всех.
Он нас, ребят, зовет друзьями.
Люблю я взгляд его и смех.
И эту складку меж бровями.
Он приохотил к книжкам нас.
Он знает сказки, и былины,
Удодова он Степку спас,
Когда малыш упал с плотины.
Проснулся. Ночь.
Отец и мать
Чуть слышно говорят:
«В Кульбите
Разграблен магазин».
«Опять!».
«А в Сосняках убит учитель».
Мне страшно. В комнате темно.
«Все это дело рук Дудули».
«Он был, по слухам, у Махно».
«Когда же он дождется пули?»,
Тревожно. Темнота и тишь.
Окно не скоро посереет
Спрошу-ка:
«Мама, ты не спишь?».
«Спала. И ты усни, скорее».
Махно. Дудули. Снег. Ветряк.
Я падаю, теряю лыжу.
К рассвету засыпаю так,
Что гулких выстрелов не слышу,
Ни улице народ.
С утра
Гудят все избы, словно ульи.
У Колыванова Петра
Задержан атаман Дудуля
И два бандита.
В Желтый лог
Уйти б Дулуля мог.
Но в лозах
Его Поярков подстерег
И сшиб железною занозой.
А затемно сказали мне.
Один бандит
Из револьвера
На колывановском гумне
Поранил милиционера.
Петр Колыванов их клянет.
Кричит, что принял под угрозой.
Цветами липы пахнул мед,
А нынче пахнет день морозом.
И снова ночь. Но не темно:
Коптилочка мигает где-то.
Отец и мать глядят в окно,
Отец совсем уже одетый.
Уходит.
«Он сейчас придет.
Ты спи».
«Я спать не буду».
«Тише!».
Нет, голос у нее не тот,
Каким баюкают детишек.
«Ты хочешь обмануть меня».
Прыжок, и вот — я с мамой рядом
Трясется красный сноп огня
Невдалеке — за школьным садом.
Деревья красные стоят.
И красные видны сугробы.
И кто то бьет уже в набат.
. На площади — три красных гроба.
Я, цепенея, подошел.
Да, мне все трое здесь знакомы.
Петр Саввич,
Митька — комсомол,
И Волгин — предволисполкома.
Их убивали топором,
А после поджигали хаты.
Я ждал:
Сейчас ударит гром,
И все узнают виноватых.
Полотнище из кумача.
Подрагивало еле-еле.
Усы Андрея Кузьмича
От изморози побелели.
Удодов Степка вдруг сказал,
Показывая на убитых:
«Гляди! У Саввича глаза
Прищурены, а не закрыты,
Он видит!»
Разве знал малец,
Как, расправляя плечи шире,
Удодов Клим, его отец
Бил Саввича пудовой гирей?
Шумели годы
Казалось детство былью дальней.
Я сам работал избачом
В другом селе, в другой читальне.
Вы знаете, как жил избач
Году, хотя б, в двадцать девятом?
Нет для читальни дров — не плачь,
Нет керосина — что ж, не плачь.
Зарплаты не дают — не плачь.
Так жил и я, друзья, когда-то.
В Заречном был я избачом
В уже не близкую ту пору.
Я много всяких книг
Стихов, поэм, романов — гору.
Прочитывал в газетах все:
Доклады и передовицы,
И сообщения из сел,
И новости из-за границы.
Мне нравилось, когда строка
За словом слово бьет по цели.
Но Ленина читать пока
Не начинал: был слишком зелен.
Дела валились на меня.
Я помню, как неукротимо
Крутил кино.
Распространял
Билеты в фонд Авиахима.
Как, не умея танцевать,
Организовывал я танцы.
Как мог три ночи я не спать
И всухомятку год питаться.
Ко всяким неудобствам глух,
На стол мигалку ставя справа,
Бородачам читал я вслух
«Железного потока» главы.
Я собирал металлолом,
Еще тряпье, золу и кости.
Размахивая кулаком,
Я кулаков громил со злостью.
Село.
Избенки и плетни.
Всегда кивающие клячи.
Идут, идут за днями дни
С трудами, радостями, плачем.
Детишки, здешние пока.
Играя в бабки возле тракта,
Не видели грузовика.
Не знают, как рокочет трактор,
Как электричество горит,
Как самолет блестит в зените,
Как без запинки говорит
По-русски громкоговоритель.
Клочками поле за селом.
Во ржи позванивают косы.
Так сколько ж, сколько лет прошло?
Ужели только двадцать восемь?
В избу-читальню он входил
Легко, не скрипнув половицей.
Когда я там бывал один,
Он не спешил со мной проститься.
Газетой новой шелестя,
Очки платочком протирая.
Речь заводил о новостях.
Об Англии и о Китае.
Он возражать пытался мне
Вначале,
Но не тут-то было:
Я припирал его к стене
Своим непримиримым пылом.
Сидел он будто на гвоздях,
А я все множил обвиненья.
Но, из читальни уходя,
Он говорил:
«Мое почтенье.
Благодарю от всей души.
Весьма приятная беседа».
И я почти уже решил,
Что он, Фомин, моя победа.
Он соглашался нелегко.
Но до уборки урожая
Он рассчитал вдруг батраков,
И рассчитал, не обижая.
И, помня проповедь мою.
Сказал:
«Что ж, счастье не в богатстве.
Я крупорушку отдаю.
Родной советской нашей власти».
По вечерам и по ночам
Слезой посолены и бранью.
Уже кипели, клокоча.
Повсюду сельские собранья.
Трещал рубах посконный холст
Кто горлом взять хотел, кто силой.
И слово новое «колхоз»
Слова привычные теснило.
Раскатом молодой грозы —
Не песнею сверчка за печкой —
Оно вошло в родной язык
В ту пору
Сразу и навечно.
Мы шли с собрания домой.
Кой-где еще светились окна.
Предсельсовета — спутник мой —
За грудь схватился,
Тихо охнул
И повалился.
Я один
Не смог поднять.
Людей звать надо.
И первым подбежал Фомин:
«Скорей! Моя хатенка рядом.
Плохой удел судьбой нам дан.
Наверно, кровь свернулась в жиле. «
На желтый бархатный диван
Ефанова мы положили.
К врачу!
Но где же взять коня?
Фомин все понял с полуслова:
«Закован Козырь» у меня.
Верхом? Так можно взять гнедого».
Он на коня помог мне сесть
И настежь распахнул ворота
Пошел! Трех верст не будет здесь!»
. А в поле, возле поворота,
Конь встал нежданно на дыбы
И завертелся у откоса.
Я цепок был, без похвальбы.
Но скоро в снег уткнулся носом.
Привстав, я огляделся. Ждет.
Мне б только перекинуть ногу.
Опять двойной удар в живот,
Опять валюсь я на дорогу.
До помраченья обозлен,
Я думать перестал о боли
Я захромал к коню.
Но он
Мелькнул и скрылся в снежном поле.
Вот тут-то и вернулась боль.
И гнев. И стыд.
Куда мне деться?
Но заслонило все собой
Лицо
Оно знакомо с детства.
Лицо того, кто ходоком
Крестьянским
Был в Москве с котомкой.
Того, кто с Лениным знаком.
Того, кто верил нам,
Потомкам.
Шатаясь, ногу волоча.
Я шел.
Гудели глухо дали
Я дотащился до врача.
Но что сказать?
Мы опоздали.
Сидел один я у стола,
Распухшее колено трогал.
Несмело девушка вошла,
Остановилась у порога.
К лицу ль угрюмость избачу?
Я улыбнулся через силу.
— Вам книгу?
— Нет. Сказать хочу.
Конец платка жгутом скрутила
И быстро подошла к столу
Сгустилась тишина в читальне
Стучали ходики в углу,
Как молоты по наковальне.
Я видел боль в глаза больших,
Слеза катилась по веснушкам.
— Фомин. мой отчим придушил
Тогда Ефанова. подушкой.
Я после много дней болел.
Но не провел и дня в постели.
Хоть это было тяжелей
Всего, чем в детстве мы болели.
Меня послали в институт,
Как посылают в наступленье.
Приехал в город я.
И тут
Заговорил со мною
Ленин.
Первоисточников черед
Пришел.
Но, ни в какие сроки,
Уже ничто не зачеркнет
Вас,
Политграмоты уроки.
Николай Юрьевич Корнеев родился в 1915 г. в селе Коренском Рыльского района Курской области в семье учителя. В 1932 г. окончил среднюю школу, в 1933-1934 гг. учился в Харьковском химико-технологическом институте. Работал литературным сотрудником в Курском радиокомитете, в областном отделении ТАСС, в газетах «Курская правда», «Советская Киргизия» и других. В 1941-1943 гг. служил в Советский Армии. В боях на Южном фронте был тяжело ранен.
Стихи Н. Корнеева публиковались в центральной и местной печати. В Курском книжном издательстве вышли в свет книги поэта: «Дорога» (1948 г.), «Передний край (1953 г.), «Так начинается лето» (1957 г.). В настоящий сборник включены стихи последних лет.
Николай Корнеев — член Союза писателей СССР.
Источник